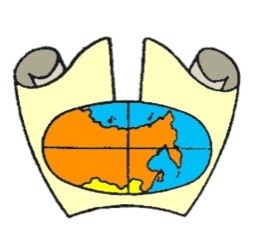ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ
К 170-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД АНГЛИЙСКИМ ДЕСАНТОМ
В ЗАЛИВЕ ДЕ-КАСТРИ
Сулейманов С.Ш.

Наступивший год наполнен историческими событиями. Среди них есть те, что в своё время повлияли на судьбы многих стран и народов, а есть менее масштабные, но от того не менее значимые.
Для жителей Хабаровского края, как и для всех россиян, важнейшими датами 2025 года являются 9 мая и 3 сентября, 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне официально началась в августе 2023 года, когда Президент РФ В.Путин подписал Указ «Об организационном комитете по подготовке к проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В середине января 2025 года состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа», на котором обсуждалась подготовка предстоящего празднования, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества и ряд других, сопряжённых тем.
В сентябре прошедшего года Губернатор Хабаровского края Д. Демешин проинформировал жителей края, что Президент России В.Путин поддержал инициативу региона и 3 сентября 2025 года в городе Хабаровске будет проведён парад в честь Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В наступившем году 16 января Президентом был подписан Указ «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества». В тексте этого документа записано, что он проводится: « В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции…».
Совершенно не случайно в определении цели на первой позиции находится положение о сохранении исторической памяти…
Это признание Президентом значимости данного вопроса для всего нашего общества: его властных и общественных институтов, для ветеранов, людей среднего возраста и подрастающего поколения.
Для дальневосточников это ещё один повод обратиться к истории присоединения и закрепления территорий нынешнего Дальнего Востока к Российскому государству, к истории, которую творили и люди военной форме. Это были моряки, офицеры и солдаты линейных частей, казаки.
Наиболее частая реакция людей при обсуждении этих страниц нашей истории - удивление тому, что они очень мало знают про это время, и восхищение поступками тех, кто пришёл тогда сюда, на край земли, в необжитые места, сменив привычный жизненный уклад на тяготы и лишения неустроенного быта и тяжёлой службы.
Это в полной мере относится к событиям, связанным с Крымской (Восточной) войной 1853-1856 годов, но не в Крыму и на Кавказе, как многие себе её представляют, а Камчатке, Курилах и на нижнем Амуре.
Если же про защиту Петропавловского порта на Камчатке народ более-менее осведомлён, благодаря участникам обороны, оставившим воспоминания советским писателям, посвятившим свои произведения этому событию, то об отпоре, который получили англичане в октябре 1855 года на берегу залива Де-Кастри, известно значительно меньшему количеству людей.
Надо отдать должное тем, кто на протяжении многих десятилетий пишет и говорит о героическом подвиге защитников Петропавловского порта, кто реализует и поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти об этой победе.
В 2024 году в Петропавловске-Камчатском были проведены торжественные мероприятия, посвящённые 170-й годовщине обороны Петропавловского порта, напомнившие жителям полуострова и другим участникам праздника о событии, развенчавшем мнение о непобедимости англо-французских сил на Тихом океане, сгладившим в какой-то мере горечь от поражения в Крымской войне.
Однако, мы должны признать, что тени обороны Петропавловского порта остались другие события, предшествовавшие боевым действиям на Камчатке, и , безусловно, во многом обеспечившие успех русских войск на далёком полуострове. Как, впрочем, и то, что происходило позднее, но было продолжением агрессии англо-французских сил против России.
Вот как об этом писал российский врач, публицист и географ Франц Шперк после победы на Камчатке, цитирую по ссылке в книге Ивана Барсукова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский»: «Занятие нами устьев Амура и совершенный по этой реке сплав разного рода припасов, пришедших заблаговременно в Камчатку, были причиной счастливого отражения нами нападения Англо-Французов в 1854 году на Петропавловский порт, а также послужили впоследствии спасением нашему военному флоту, находившемуся в водах Тихого океана и нашедшему себе верное убежище от неприятеля в лимане Амура, доступ к которому не был известен Англо-Французам.
Узнав об отбитии нападения неприятельской эскадры на Петропавловский порт, Муравьёв ясно предвидел, что враг не захочет остаться в долгу и, вероятно, готовится к новому нападению; поэтому, по распоряжению Муравьёва, новые батареи росли с удивительной быстротою, и заготовлялись станки и лафеты.»
Сам Муравьёв ещё в марте 1854 года писал в письме брату Валериану Николаевичу: « Война с Англичанами может коснуться и до меня на Восточном океане, но я думаю, что мы там будем сильнее их и, по крайней мере, прочнее при своих гаванях и портах; во всяком случае образованные мною войска теперь куда как пригодились.»
Предвидя борьбу с англичанами и французами за обладание удобными заливами на берегу Восточного океана, Муравьёв поддерживал инициативы руководителя Амурской экспедиции Н.И. Невельского по основанию постов на Амуре и на побережье Татарского пролива.
В марте 1853 года на берегу залива Де-Кастри был основан пост Александровский. Вот как пишет об этом Н.И. Невельской в своей книге « Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России»: «Вслед за отправкой почты 15 марта 1853 года я получил с нарочным из залива Де-Кастри донесение лейтенанта Бошняка, в котором тот уведомил меня, что по прибытии в Де-Кастри он 4 марта созвал местное население и с поднятием военного флага занял залив Де-Кастри.»
Действовал Невельской, дав указание занять Де-Кастри и Кизи, на свой страх и риск, так как не было на то повеления свыше.
Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н .Муравьёв, разделяя мнение начальника Амурской экспедиции, смог убедить императора в необходимости такого шага и в апреле 1853 года тот дал такое указание. Но узнал Невельской об этом только 11 июля, получив предписание генерал-губернатора по исполнению высочайшего повеления: «Вследствие доклада моего и на основании высочайшего указания о границе нашей с Китаем предлагаю Вам занять нынешним же летом залив Де-Кастри и соседственное с ним селение Кизи и о последующем донести мне. В заливе Де-Кастри иметь караул по крайней мере из 10 человек при офицере. В Кизи поставить военный пост для подкрепления и снабжения Де-Кастри.»
Так начиналась история поста Александровского, а ныне посёлка Де-Кастри, на берегу залива Де-Кастри, с 1952 года называющимся заливом Чихачёва.
Своевременность решений Н.Н. Муравьёва и Н.И. Невельского было подтверждено дальнейшими событиями.
Уже в июне следующего 1854 года во время сплава по Амуру, остановившись в Мариинском посту, Муравьёв отдаёт распоряжение, как пишет И.Барсуков: « … для защиты Петропавловского порта против нападения неприятеля: 350 человек нижних чинов, сплывших по Амуру , отправить из Мариинского поста через озеро Кизи в залив де-Кастри на укомплектование находящегося в Камчатской флотилии 47-го флотского экипажа; а из залива де-Кастри на транспортах «Иртыш» и «Двина», пришедших кругом света из Кронштадта на Камчатку с орудиями,направить в Петропавловский порт.»
Из Де-Кастри на Камчатку убыли и несколько офицеров: помощник военного губернатора капитан 1-го ранга А.П.Арбузов, артиллерист капитан-лейтенант В.И. Кораллов, специалист по крепостным сооружениям инженер-поручик К.О.Мровинский, внесший свой вклад в создание оборонительных сооружений Петропавловского порта.
Путь от Амура до побережья Татарского пролива и далее на Камчатку был тяжёлым. Вот как пишет об этом А.П.Арбузов в своих записках: «… я был отправлен в порт де-Кастро с 400 солдатами через озеро Кизи на пароходе Аргунь, имея лодки на буксире, а далее болотом. Шли мы туда трое суток, сделав за это время 25 вёрст, причём солдаты несли на носилках боевую амуницию, провизию сухарей и крупы на две недели и вещи кап.-лейт. Каралова, инж. поруч. Муравинского и мои. Путь этот был очень труден; пробираясь болотом, необходимо было срубать во многих местах деревья и сучья для устройства мостов и переходов; местами приходилось перепрыгивать с кочки на кочку…
Кормился наш отряд солониной, варили щи из дикой зелени, черемши (allium ursinum), собираемой по дороге, да пили кирпичный чай, варившийся обыкновенно в солдатских котелках. Чай этот спасительное средство от влияния миазмов болот. Таким образом, в сопровождении местного жителя, полудикого гольда, служившего нам проводником, вышли мы на берег Татарского пролива. Родная атмосфера моря, оживила меня, утомлённого трудным путём, и, пройдя 10 вёрст по берегу отлива, мы пришли в порт де-Кастро.
Труден был переход по болоту до порта де-Кастро; но плавание по морю и океану грозило сделаться для нас погибельным».
Своевременное пополнение Петропавловского гарнизона личным составом и вооружением, транспортами, прибывшими из Де-Кастри, позволило значительно увеличить число защитников города и выйти с честью из жестокого противостояния с объединенными силами Англии и Франции. Но понимая, что побежденные вновь вернутся на Камчатку взять реванш, генерал-губернатор Н.Н. Муравьёв, не спрашивая разрешения императора, решает оставить Петропавловск и переводит эскадру с большей частью жителей порта на Амур.
Для передачи этого предписания контр-адмиралу Завойко на Камчатку в условиях строжайшей секретности в конце 1854 года отправляется курьером адъютант Муравьёва есаул Мартынов. Он прибыл к месту назначения 3 марта, а уже 1 апреля всё было готово к эвакуации.
В соответствии с указанием Н.Н.Муравьёва было необходимо, как пишет И.Барсуков,: « … снять порт с его укреплениями, вооружить все суда, забрать гарнизон, все казённое имущество, присутственные места и должностных лиц, принять на транспорты все семейства… 5-го апреля, по выпилении из малой губы льда, суда флотилии, вверенной контр-адмиралу Завойко , благополучно вышли в море для следования в гавань де-Кастри…».
Жена Завойко с 9 детьми, будучи беременной 10 ребёнком осталась на Камчатке и прибыла в Де-Кастри только осенью перед прибытием туда английских кораблей. Позже она напишет об этом в книге «Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854-1855).
Вот её описание событий мая 1855 года в заливе: « В де-Кастри их свезли просто на берег в начале мая, но там местами ещё лежал мокрый снег, местами глубокая грязь. Их отвезли просто на берег, домов ещё не было там…
Неприятельская эскадра, по уходу нашей эскадры к Лазареву мысу, вошла, кажется 15 мая вечером, в залив де-Кастри, стала на якорь и начала обстреливать лес и утёсы; высадила даже десант, который забрал на берегу испеченный хлеб ( там была наскоро устроена хлебопекарная печь), кур и свиней, свезённых с судов, тем и пришлось ограничить свои подвиги. …вид неприятельских судов переполошил оставшихся ещё женщин и ребят, с которыми были только гражданские чиновники; он побудил их пробираться, по рыхлому снегу и глубокой грязи 25 вёрст до озера Кизи; шли разумеется большей частью пешком, так как оленей для перевозки их было чрезвычайно недостаточно.
По озеру Кизи их доставили на баркасах в Мариинский пост, и наконец в первых числах июня они пришли уже на баржах в Николаевск, где всё лето прожили в палатках»
Фрегат «Аврора» и корвет «Оливуца» прибыли в залив Де-Кастри 1-го мая, после короткой стоянки в Императорской гавани. В заливе уже находились другие суда камчатской эскадры: транспорты «Двина» и «Иртыш», чуть позже к ним присоединились транспорт «Байкал» и бот № 1.
По сведениям Завойко на судах флотилии, кроме экипажей, находилось:
«Лиц духовного звания – 1
Чиновников гражданского ведомства – 9
Жен чиновников гражданского и морского ведомства – 13
Детей – 24
Прочих лиц принадлежащих к семействам чиновников – 7
Прислуги мужского и женского пола – 5
Жен нижних чинов – 78
Детей – 120
Вдов – 10
Прочих лиц принадлежащих к семействам нижних чинов – 15
Всего -282».
Все эвакуированные из Петропавловского порта женщины и дети, гражданские служащие были отправлены через Кизи в Мариинск.
Экипажи судов ждали освобождения ото льда Амурского лимана и пролива у мыса Лазарева для следования в Николаевский пост. Офицеры и матросы понимали, что промедление с движением на север чревато скорым обнаружением эскадры противником и неравным боем.
Контр-адмирал Завойко 7 мая отдал приказ о повышении бдительности и диспозиции судов на случай сражения. Как оказалось, это было сделано своевременно.
Уже 8 мая к заливу подошла эскадра из трёх судов, как впоследствии выяснилось это были в английские фрегат «Sybille», винтовой корвет «Hornet» и бриг «Bittern». К концу дня состоялся огневой контакт между корветами Хорнетом и Оливуцей. Короткая дуэль закончилась попаданием ядра в английский корвет, после чего английские корабли ушли в пролив южнее мыса Клостеркамп (ныне мыса Орлова), где были видны 9 и 10 мая. В эти дни больше попыток атаковать русскую эскадру не было. После 10 мая английские суда исчезли из поля зрения.
Адмирал Завойко получил 14 мая донесение о том, что пролив у мыса Лазарева очистился ото льда, и суда могут безопасно туда пройти. Туманной ночью 15 мая эскадра, соблюдая все возможные меры предосторожности, вышла из залива Де-Кастри и взяла курс на север.
Как пишет Завойко, 16 мая в проливе произошла встреча с с американским бригом, нёсшим на фор-брам стеньге русский военный флаг. На этом судне находился капитан-лейтенант Лесовский с 8-ю офицерами и 150 нижними чинами с потерпевшего крушение у японских берегов фрегата «Диана». Это была та часть экипажа, которая по указанию вице-адмирала Путятина отправилась в Петропавловский порт, но не застав там камчатскую эскадру, отправилась в Де-Кастри и догнала её уже на пути к мысу Лазарева.
В полном составе эскадра собрались у мыса Лазарева к 24 мая, после чего военные суда встали в проливе в боевой порядок, а транспорты и бот №1 ушли в лиман.
На мысе всё это время шло сооружение артиллерийской батареи. По распоряжению Невельского для этого туда была отправлена команда под руководством капитан-лейтенанта Бутакова, который после прибытия эскадры поступил в подчинение Завойко. С Бутаковым трудились капитан-лейтенанты Бирюлёв и Шварц. По мнению командующего эскадрой быстрое строительство батарей связано было с энергичным руководством этими работами капитан-лейтенантом Лесовским. Уже 3 июня 8 пушек 24-фунтового калибра были готовы встретить неприятеля.
К радости моряков 5 июня они встретили не корабли неприятеля, а шхуну «Хеда» с вице-адмиралом Путятиным, который с частью экипажа фрегата «Диана», на построенном в Японии небольшом судне прошёл тем же маршрутом, что и часть команды с капитан-лейтенантом Лесовским: Япония – Петропавловский порт – Татарский пролив. Им всем повезло, они прошли мимо кораблей противника, которые повсюду искали исчезнувшую русскую эскадру.
Удача отвернулась от третьей части команды, отправившейся из Японии в Петропавловск под руководством лейтенанта Мусина-Пушкина на купеческом бриге «Грета», который шёл под флагом вольного города Бремена. После Камчатки, где тоже не застали русский флот, они взяли курс на Аян и во время перехода были захвачены в плен английским шлюпом «Барракуда».
Об этом интересно написано корабельным врачом Джоном Тронсоном в его путевых заметках «Плавание «Барракуды» в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая», вышедших в издательстве «Рубеж». «За время нахождения на борту «Барракуды» русские офицеры подружились со многими англичанами, и лично я расставался с ними с надеждой, что когда-нибудь в будущем мы возобновим наше знакомство при более благоприятных обстоятельствах. Они были явно разочарованы решением сэра Джеймса Стирлинга отправить их в Гонконг, а не в залив Де-Кастри под честное слово, что до конца войны они не возьмут в руки оружие»
Мусин-Пушкин в своих записках об этом пишет так: « Командир английского парохода – капитан Стерлинг (сын адмирала Стерлинга, командующего английской эскадрой в Восточном Океане), потребовал меня к себе и объявил нас военнопленными, а бриг призом. Прибывши в Аян 22 июля, я старался убедить г. Эллиота (заведующий крейсерами Охотского моря, прим.Мусина-Пушкина) в несправедливости нашего арестования, так как мы, без всякого оружия, после крушения возвращались в своё отечество, в порт не защищённый никакою военную силою, и притом принадлежащий Северо-Американской Компании.»
Несколько позже, уже адмирал Стерлинг вступает в общение с пленными русскими моряками и определяет условия, на которых он готов их освободить. В воспоминаниях Мусина-Пушкина записано, что адмирал предложил: « 1)перевезти нас в наши укрепления на Амуре или на суда нашей Камчатской эскадры; 2) требует с нас слова, что мы не будем участвовать в действиях против неприятеля до получения известия о выданных вместо нас пленных союзников.
Я отвечал, что подобные предложения считаю большой неделикатностью со стороны адмирала. Мы взяты безоружными, после крушения, и хотя каждому из нас очень желательно возвратиться в отечество, но не только Русский офицер, а даже и матрос не решиться купить свою свободу через указание неприятелю где находятся суда наши. Равным образом никто из нас не решится доставить неприятелю предлог высмотреть под парламентерским флагом неизвестную ему местность и узнать фарватер к нашим укреплениям».
Не согласился и адмирал на предложение Мусина-Пушкина доставить русских моряков в Де-Кастри, сказав: «…местность эта нейтральная, ибо находится в Китайских владениях. Убедивши командора в неосновательности такого ответа, я просил передать адмиралу, что не приму никаких предложений недостойных звания Русского офицера и представляю ему право поступать с нами согласно законам войны».
В это время и меняется положение Завойко. Вот как он пишет об этом: «5-го же числа получено предписание генерал-губернатора о назначении меня начальником морских сил, при устьях Амура расположенных, с назначением квартиры моей в Николаевском посте, вследствие сего я передал начальство над эскадрой капитану 2-го ранга Изыльметьеву, а сам отправился по назначению».
После ухода российских судов из Де-Кастри, в залив вернулись английские корабли под командованием командора Элиота для завершения баталии. Но, увы, залив оказался пустым. На берег высадился десант, который, как было написано в Морском сборнике №1 за 1856 год, «… нашёл и ограбил имущество камчатского аптекаря Лыткина, не успевшего перевезти оного в Кизи», их трофеем оказался ещё и рассыпанный куль муки.
Среди вещей семьи Лыткиных был дагеротип супруги аптекаря, который коммодор Эллиот во время очередного нахождения английских кораблей в Аяне, передал представителю Российско-Американской компании господину Фрейбергу: «…коробочку с дагеротипным женским портретом и разными принадлежностями женского туалета, извиняясь, что она нечаянно захвачена с воинскими вещами из залива Де-Кастри, и прося передать их по принадлежности.»
В дневнике моряка Фёдора Алексеева со ссылкой на очевидца высадки англичан на берег залива это описано так: « А он все вещи, которые там находились, перепортил, перервал и перекидал, штыками переколол, перерубал. Некоторые вещи были утащены нашими версты за две и брошены, и их неприятель разыскал, перепортил, перервал и перекидал – где видать юбку изорванную, где рукав от платья. Белую муку, бывшую на берегу, забрали на судно, кур всех захватили и свинью губернаторскую…».
Алексеев далее пишет: « Н.Н.Муравьёв был возмущён, что казаки, оставленные в Де-Кастри, не оказали должного сопротивления врагу. А поэтому он решил наказать казаков. Но сделал это в неудачной форме». Попытка генерал-губернатора противопоставить казаков защитникам Камчатки не нашла у них поддержки.
Недовольство Муравьёва событиями 16 мая 1855 года в заливе Де-Кастри описаны и в книге Ивана Барсукова « Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский». «Этот безнаказанный дессант Англичан и был причиной гнева Муравьёва на командира поста есаула Имберга. Имберг был предан военному суду, но не успел суд собраться, как дело разъяснилось и оказалось, что Имберг лежал в то время в страшной цинге и, не получив ни от Невельского, ни от Завойко приказания идти в де-Кастри, не знал о появлении неприятеля. Впоследствии он был награждён наравне с другими.
С этого именно времени возможно считать охлаждение Муравьёва как к Завойко, так и к Невельскому». Но эта точка зрения не автора книги, он цитирует К.Б. Чаплеевского.
Барсуков далее высказывает своё мнение: « Но это не совсем верно, скажем мы по отношению к Невельскому: некоторое охлаждение к нему Муравьёва, основывавшееся на неточности в исполнении его распоряжений, мы видели и ранее в его письмах. Но не подлежит сомнению, что Муравьёв никогда не мог ни простить, ни забыть того факта, что неприятельский десант, спущенный в де-Кастри в мае месяце, не нашёл там отпора, ни войск, которые следовало выдвинуть к этому пункту из Кизи, - как это сделал сам Муравьёв, лишь только пришёл в Мариинск».
После визита на безлюдное побережье англичане и французы вновь были озадачены исчезновением и озабочены поиском камчатской флотилии. Оплошность Элиота, упустившего русскую эскадру, вызвала волну негодования в Англии. Были возмущены английские парламентарии. Многие газеты Европы и Северной Америки писали об этом событии.
Вот выдержка из United Service Gazette: «Нам больно рассматривать случай, касающийся чести британского флага и долженствующий быть непременно подвергнутым военному суду. Если бы Русские и во всём превосходили нас, то всё-таки обязанностью английского командора было не выпустить их из виду… Это исчезновение целой эскадры из наших глаз, так дурно рекомендующее нашу бдительность, будет пятном на британском флаге. Все воды океана не будут в состоянии смыть это гнусное бесчестие».
Еще одна цитата по этому поводу: « Читатели помнят, что когда союзная эскадра пришла в Петропавловск, то Русские суда уже отправились к устью Амура, лежащим против северной оконечности полуострова Сахалин, имевшего в длину от N до S около 170 лиг и соединённого, по показанию лучших мореплавателей, с материком, южнее устьев Амура (?). Между материком и Сахалином, южнее перешейка находится Татарский залив, а севернее перешейка – Сахалинский залив.
Однакож некоторые моряки полагают что Сахалин остров, и что есть фарватер соединяющий оба залива. Песчаный бар воспрепятствовал фрегату Amphitrite проникнуть в реку. Высланные для промера гребные суда, поднявшись довольно далеко вверх по реке, не встречали ни Русских, ни укреплений, ни судов. Мы теряемся в предположениях, что стало с Русскими и их судами? Если бар не дозволяет союзным военным судам входить в реку, то как же могли Русские провести свои? Вероятно, что они скрылись в какой нибудь бухте Татарского залива. Русских не отгадаешь! Не сожгли ли они свои суда и не удалились ли в какую нибудь крепость, в верховьях Амура или в самую Сибирь?»
В United Service Gazette писали: «… негодование моряков достигло высшей степени. Каждый офицер, пристрастный к службе и принимающий её близко к сердцу, чувствовал, что Британский флаг был позорно унижен (miserably degraded), обесчещен… нельзя припомнить более совершеннейшей гнусности в морском деле, как выпущение Русской эскадры из залива де-Кастри. Подобной вещи ещё не бывало в истории…
Мы надеемся, что эти слова не ускользнут от внимания независимых и самостоятельных членов Парламента, и что сэр Джемс Стирлинг и Командор Эллиот будут отозваны и подвергнуты военному суду».
Понимая, что враги не оставят своих попыток добиться победы над русскими в этой части Восточного океана, Муравьёв спешит укрепить побережье и устье Амура от возможного нападения.
По сведениям Г.И. Невельского со вторым сплавом по Амуру для защиты Приамурского края прибыли 15-линейный батальон и 14-й линейный полубатальон, общей численностью 2500 человек. В Мариинском посту было сосредоточено 2700 человек, там же была размещена главная квартира всех войск.
Это позволило часть военнослужащих передислоцировать в район залива Де-Кастри и устроить там укреплённый лагерь. Такое решение обеспечило защиту поста Александровского и предупреждение высадки вражеского десанта, которую ожидали до поздней осени.
В конце сентября основные силы с берега залива были отведены на зимние квартиры в пост Мариинский, а в лагере осталось немногим более ста человек. Погода в этих краях уже была не лучшей для судоходства и не располагала к боевым действиям.
В конце сентября в Де-Кастри пришло торговое американское судно с товаром, на котором из Петропавловска прибыла жена контр-адмирала Завойко – Юлия с детьми.
Она пишет об этом в своих записках: «Хозяин судна, Американец Кушин, пришедший на нём с товаром (в Петропавловск в августе 1855 г.) по моей просьбе согласился взять меня с собой и завезти в де-Кастри. Он привёз свой груз товаров и не знал о снятии порта, и ему при моём предложении было гораздо выгоднее выгрузить его в населённом месте, где можно предполагать что в провизии сильно нуждаются, чем в пустынном Петропавловске…
Грустный вид имеет залив де-Кастри; кругом скалы, везде поросшие чёрным, хвойным лесом, придающим всей картине такой мрачный колорит».
О прибытии купеческого судна узнали и Мариинском посту. Неизвестный автор, чьи записки были опубликованы вместе с очерком капитана-лейтенанта Федоровского в « Сборнике известий…», издаваемый Н.Путиловым, описывает это так: «В последних числах Сентября получили мы (на Мариинском посту) известие, что Американский барк Беринг, шкипер Мос, прибыл в бухту де-Кастри, с грузом провизии всякого рода. Новость эта так обрадовала нас, ожидавших провести всю зиму на рыбе и чёрном хлебе, что я решил отправиться лично, сделать некоторые покупки и, вместе с тем, посмотреть местность, которая хоть и не особенно живописна, но тем не менее очень интересна. Переход, 75 вёрст, совершён был частью на лодке, частью пешком.
Бухта де-Кастри лежит к югу от устья реки Амура, заключается между мысом Спасения и мысом Сомон: берег её лесист, и в лесу находятся две казармы, где помещаются казаки и два домика – один для офицера, другой для больных». Таким увидели залив де-Кастри Юлия Завойко и автор приведённой выше цитаты перед заходом в него английских кораблей и началом почти двухнедельной осады Александровского поста.
И торговому судну, и этому неизвестному автору, судя по всему офицеру из Мариинского поста, довелось стать свидетелями Кастринского боя и, каждому по- своему быть его участниками.
3 октября в залив вошли три английских судна: фрегат «Sybille» и корветы «Hоrnet» и «Encaunter». До 16 октября шёл обстрел защитников побережья и предпринимались попытки высадки десанта. Но всё было тщено, врагу не удалось высадиться в заливе и нанести сколь-нибудь значительный урон обороняющимся. Они смогли только сжечь юрту аборигенов, которая находилась на берегу лагуны Сомон.
В первый день нападения оборону организовал и возглавил есаул Пузино, а на следующий день командование принял подполковник Сеславин, прибывший с подкреплением из Мариинского поста.
Все события, связанные со сражением в Де-Кастри, подробно описаны участником обороны Петропавловского порта и Кастринского боя, капитан-лейтенантом М.Я.Федоровским. которому в это время было поручено вести журнал военных действий. На основе этих материалов Михаил Яковлевич написал очерк «Нападение английской эскадры на восточный берег Сибири , в октябре 1855 года», который вышел в свет в 1856 году в «Сборнике известий, относящихся до настоящей войны, издаваемый с высочайшего соизволения Н.Путиловым». В первоначальном виде этот текст можно найти на сайте Российской государственной библиотеки.
Современному читателю это свидетельство участника защиты Де-Кастри стало доступным, благодаря стараниям камчатского краеведа, писателя и журналиста Сергея Вахрина, опубликовавшему данный текст. В первоначальном варианте его можно найти и почитать на сайте Российской государственной библиотеки. Советую это сделать, непередаваемые ощущения…
Вот как зафиксировал эти события капитан-лейтенант Федоровский: «В 8 часов утра, 3-го Октября 1855 года, показались в Татарском проливе, пред входом на рейд де-Кастри, три судна без флагов: один фрегат, лавировавший под всеми парусами к N –ду, и два паровых корвета. Тотчас была пробита в лагере тревога. Рота, в числе 120 человек, была разсыпана по опушке леса Александровского поста, следующим порядком: 1-й взвод , в числе трёх урядников и 40 человек казаков, под командою Линейного № 14-го батальона прапорщика Чаузова, занял правый фланг до речки Нелли, составлявшей центр позиции; 2 -й взвод, в числе трёх урядников и 40 человек казаков, под начальством 47-го Флотского экипажа лейтенанта Линдена, занял левый фланг позиции; два горных 10-фунтовых единорога, при одном фейерверкере и 18 артиллеристах, под командою 47-го Флотского экипажа мичмана Эльчанинова, примыкали к левому флангу.
Команда казачьих штуцерных, в числе 40 человек, была разделена на 2 полувзвода: 1-й полувзвод под начальством старшего урядника Николая Сапожникова, расположенный в земляных завалах на правом фланге позиции, служил прикрытием 2-му полувзводу; 2-й полувзвод, под начальством младшего урядника Федота Журавлёва, таким же порядком расположенный на левом фланге, служил прикрытием артиллерии.
Командующий всем отрядом есаул Пузино находился в центре позиции, равно как и 19-го Флотского экипажа капитан-лейтенант Федоровский, которому поручено было следить за ходом действий для составления военного журнала…
В 12 ¼ часов 7 вооружённых гребных судов, имея десанту до 400 человек, построились в две колонны и направились к Александровскому посту, на речке Нелли…
В 12 час. 40 минут, гребные суда приблизились к берегу и были встречены огнём наших орудий и штуцерных; в тоже время, остальные два взвода с громким ура бросились на берег и открыли огонь по неприятелю…
В 1 ¾ ч. фрегат и паровые корветы приблизились к берегу и стали на шпринги параллельно оному: фрегат в разстоянии на глазомер до 5 кабельтовых; корветы 2 ½ или 3 кабельтова, и начали осыпать берега наши по всем направлениям бомбами, ядрами и гранатами; тогда есаул Пузино поставил отряд вне неприятельских выстрелов.
В 5 ½ часов бомбардирование прекратилось.
В 6 часов фрегат и корвет подняли верпы и отошли от берега…
Потеря наша в этот день состояла из одного убитого казака и двух раненных: казака и фейерверкера».
На следующий день враг вновь предпринял попытку высадки десанта, продолжив обстрел позиций защитников и целя в казармы, «…но ядра и бомбы ложились в лесу, не долетая до казарм…
В 10 ½ часов вечера прибыл в де-Кастри адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири подполковник Сеславин и принял начальство над отрядом».
7 октября «В час с четвертью прибыли есаулы Скобельцин и Имберг с 40 казаками 6-й сотни конного Амурского полка. В 2 ½ часа прибыл Линейного № 14-го батальона подпоручик Поротов: с тремя музыкантами 21 унтер-офицером и 159 рядовыми; в след за ним прибыл 2-й взвод Артиллерийского горнаго дивизиона, с надлежащей прислугою».
Попытки высадиться на берег неприятель предпринимал вплоть до 16 октября, когда: « В 4 ½ по полудни, фрегат, подняв гребные суда поставил паруса и вышел с рейда». Паровые корветы ушли из залива ещё раньше.
Очень своеобразно пишет об этих событиях Джон Тронсон. По его версии, английские корабли зашли в Де-Кастри для заготовки дров, так как температура воздуха в эти дни сильно упала и экипажам надо было согреваться. И вот безоруженных морских пехотинцев , отправившихся за дровами, русские неожиданно обстреляли из засады.
Есть у него и интересный факт. Шлюп «Hornet» был отправлен исследовать вход в Амурский залив ( имеется в виду вход в лиман ) и, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удостоверился в наличии южного прохода в Амур.
В обороне побережья приняли участие казаки и артиллеристы, солдаты и моряки, люди разных чинов и званий. Кто-то из них погиб, защищая Отечество, а кто-то ещё долго продолжил служение ему. Фамилии, которые упомянуты в очерке Федоровского, можно встретить во множестве материалов, касающихся других времён и событий.
Не обошли это событие стороной и писатели. В романе Константина Седых «Даурия» он так пишет о герое своего произведения: «В войну 1954 года отличился на Дальнем Востоке казак Андрей Улыбин. Англичане пытались высадить в бухте Де-Кастри, защищаемой пешей полусотней забайкальцев, десант морской пехоты, чтобы изгнать с Амура русских. Пока с судов английской эскадры, окутанных дымом пальбы, летели гранаты и бомбы, Улыбин лежал за камнями. Но едва пальба утихла и к берегу понеслись, сверкая на солнце вёслами и штыками, шлюпки десанта, он вместе с другими казаками выполз на рыжий обрыв у входа в бухту. Первым же выстрелом сбил он на передней шлюпке одетого в белый китель рослого офицера с подзорной трубой в руках. Англичане в замешательстве повернули назад. За это и был Андрей Улыбин первым из забайкальского войска награждён Георгиевским крестом и представлен к производству в урядники».
Конечно, художественное произведение не исторический документ, но оно хорошо передаёт суть происходивших событий.
В очерке Федоровского есть оценка действий защитников Александровского поста их начальником: « По донесению полковника Сеславина казаки дрались молодцами, и как при отбитии десанта, так и ровно в деле 11 октября явили себя истинными героями.
«Не могу умолчать», продолжает г.Сеславин в своём донесении « О гг. офицерах вверенного мне отряда и других лиц случайно бывших в де-Кастри, для покупок привезённых товаров. Все они, от первого до последнего, на перерыв просились в дело и во всём служили прекрасным примером для нижних чинов».
По итогам обороны Де-Кастри император на донесении генерал-губернатора Восточной Сибири написал: « Делает честь начальникам и войскам», а на его рапорте наложил резолюцию: « Всех офицеров представить к наградам и объявить благоволение в приказе, а нижним чинам дать пять знаков отличия Военного ордена и всем по одному рублю серебром».
Эту информацию можно найти в «Энциклопедии Забайкалья». В память о героическом участии забайкальских казаков в Кастринском сражении в Чите в 1855 одна из улиц получила название Кастринской. В 20-х годах прошлого столетия она была переименована в Партизанскую, но в 1994 ей вернули прежнее название.
Сохранились сведения о событиях в Де-Кастри и в фольклоре. Благодаря трудам известного учёного-филолога М.Азадовского эти произведения доступны нам и сегодня.
Вот куплет из солдатской строевой песни:
«Вспомним, братцы, как стояли
Мы в де-Кастри на постах.
Янки нас атаковали
Да остались в дураках».
Интересна историческая песня о переселении казаков на Амур и защите Де-Кастри. Она состоит из двух частей и известна в двух вариантах. Вот выдержки из одного:
«В пятьдесят пятом году
В Забайкальском во краю
По бригадам шёл приказ –
Назначали в Амур нас.
Мы услышали походу,
Много шли в Амур с охотой…
Мы Амуром проплывали,
Много горя попримали,
Мы и плыли ночь и день,
Часто садились на мель;
С мелей баржи нас сымали
Свою участь проклинали,
Свою участь проклинали…
Мы всё горе забывали,
Да во Кизу приплывали
Муравьёв отдал приказ,
Повели в Декастру нас.
Мы в Декастру приходили,
На изморье выходили,
На изморье выходили ,
Белы руки опустили:
«Это что за издивленье,
Только лес, одне коренья!»
Нам и нечего смекать,
Мы просеки просекать,
А морозы подошли,
Мы в казармы перешли,
Мы в казармы перешли,
Мириканцы к нам пришли.
Мириканца дожидали,
Англичана дожидали…
Часовые услыхали,
Пузинову весть подали.
Пузинов наш разбросился,
Сам в казармы прибежал,
Сам в казармы прибежал,
Бить трелогу заставлял…
Бить трелогу заставлял…
Мы трелогу услыхали,
Все работы побросали,
Во казармы прибежали,
Пантраши, ружья хватали.
На улицу выбегали,
По зводам, рядом стояли;
Перед зводом то отец,
Пузинов наш молодец:
« Благославляю вас, ребята,
Мы падем на поле брака»
Рошшатал он зводами
И просекой отправлял.
Мы за кустиком лежим,
Промеж собою говорим:
«Ну, ребята, не болтай,
Англичанам не здавай».
Ядра, бомбы землю рвут,
Нас и страсти не берут;
Летят ядра и картечи –
Мы всегда подём навстречу;
Пушки, ружья загремели,
Наши кровью закипели.
Англичане заревели,
Ромно дики, как бараны,
Мы немного попалили,
И в казармы отвалили;
На кроватки свои сели,
С горя песенки запели».
Так в октябре 1855 года закончилась активная фаза противостояния объединённых англо-французских сил и защитников восточных пределов Российской империи. Хотя, строго говоря, многие здешние территории были не разграничены и Айгуньский договор был ещё где-то в будущем.
Но параллельно с организацией отражения от нападений англо-французов на русские поселения на Камчатке, на побережье Охотского моря и в Татарском проливе генерал-губернатор Восточной Сибири уже вел переговоры с китайскими чиновниками о границах наших государств.
Протокол первого заседания с китайскими уполномоченными по разграничению земель был составлен 9 сентября 1855 года в Мариинском посту. Председательствовал на этом заседании по поручению Н.Н.Муравьёва контр-адмирал Завойко. 11 сентября на втором заседании с Завойко присутствовал и Муравьёв, который закончил встречу следующими словами, цитирую по И.Барсукову: «Сообщая мысли мои, вам прочитанные, прошу предъявить их Китайскому правительству и быть уверенными, что главною мыслью нашего правительства есть сохранение мира для обоюдной пользы двух великих соседственных держав – Дайцынской и Российской – на вечные времена».
Когда читаешь об этом, напрашивается вопрос, а почему не увековечить такое событие в виде памятного знака, который бы хорошо смотрелся на высоком утёсе у села Мариинского, издавно называющийся «Батарея». И, если всё-таки по Амуру пойдут туристические суда, будет место, где любознательным путешественникам расскажут и об этом факте нашей истории. К сожалению, нет никакого памятного знака о событиях 1855 года и в Д-Кастри.
Таких поселений на Амуре и побережье Татарского пролива множество, и мы должны помнить имена тех, кто основывал их и защищал, кто сделал всё, чтобы эти края стали частью России.
Вновь возвращаясь к защите побережья от английского десанта в мае и октябре 1855 года, хочу напомнить слова российского императора: « Делает честь начальникам и войскам». Справедливость такой оценки заслуг участников обороны побережья Татарского пролива не вызывает сомнений.
Многие защитники Петропавловского порта приняли участие и в защите Александровского поста, и Амурского лимана. После этого их славный путь продолжился в разных местах: кто-то продолжил службу на востоке, а кто-то в Санкт-Петербурге и на других флотах.
Есаул П.П.Пузино будет заниматься переселением людей на берега Амура. Дослужится до звания полковника и уйдёт на пенсию генерал-майором.
Капитан-лейтенант С.С Лесовский, командир фрегата «Диана» станет адмиралом и морским министром. Лейтенант Я.И.Купреянов, бывший в 1854 году начальником Александровского поста, получит звание вице-адмирала, такое же звание получит капитан-лейтенант Шварц. Контр-адмиралом станет капитан-лейтенант М.Я.Федоровский. Контр-адмиральские звёзды будут на погонах И.И.Бутакова. и П.Н. Бессарабского, который командовал транспортом «Двина» в 1852-1853 годах.
Среди офицеров, прибывших в мае 1855 к мысу Лазарева на шхуне «Хеда», был и лейтенант А.Ф.Можайский, фамилию которого многие связывают с авиацией. Проходя службу в Николаевском посту он командовал транспортом «Двина». Ушел на пенсию Александр Фёдорович со званием генерал-майора, которое позже изменили на контр-адмирала.
Интересна судьба кораблей камчатской эскадры. Так фрегат «Аврора» под командованием капитан-лейтенанта Изыльметьева 21 августа 1853 года вышел из Кронштадта и должен был прибыть в Де-Кастри для усиления эскадры вице-адмирала графа Е.В.Путятина. Но капитан корабля во время стоянки в порту Кальяо, усыпив бдительность англичан и французов, чьи корабли по сути блокировали «Аврору» в ожидании известия о вступлении своих стран в Восточную войну, тайно увёл корабль и во время тяжёлого перехода по Тихому океану принял решение идти в Петропавловский порт.
Появление «Авроры» на Камчатке» и её участие в защите Петропавловского порта внесло существенный вклад в победу над англо-французскими силами. Офицеры и матросы принимали участие в корабельной дуэли и в рядах защитников порта на суше.
Лейтенант Фесун, служивший на «Авроре», так потом напишет об этом: «Всё выходило к лучшему для нас в том походе. И даже утомительный, последний переход из Калао, и самая болезнь команды, бывшая причиной направления фрегата вместо устьев Амура к Петропавловску, всё имело последствия столь счастливые; можно подумать, что труды, лишения и опасности в этот промежуток времени, были не более как испытания, за которыми следовал ряд счастливых событий. Да и в самом деле, не будь болезни, фрегат пошёл бы в залив де-Кастри, Камчатка была бы представлена собственным, весьма незначительным средствам, и я думаю, мало кто станет оспаривать ту непреложную, в последнем случае, истину, что Петропавловску пришлось бы по крайней мере очень плохо».
В мае месяце «Аврора» после перехода в Татарский пролив участвовала в противостоянии с английскими кораблями в заливе Де-Кастри. Как и другие суда камчатской эскадры после этого «Аврора» ушла к мысу Лазарева и далее в Амурский лиман, где находилась до окончания войны.
В октябре 1856 года «Аврора» под командованием М.П.Тироля вышла от мыса Лазарева по маршруту: Де-Кастри – Гонконг- Сингапур - мыс Доброй Надежды – Копенгаген – Кронштадт. Героический дальневосточный поход фрегата длился без малого три года и 10 месяцев.
В апреле 1861 года фрегат был исключён из списков судов Балтийского флота, а его имя перешло по флотской традиции к новому кораблю, который все знают как крейсер «Аврора».
При спуске крейсера на воду в почетном карауле стоял 78-летний матрос, участник обороны Петропавловского порта и вице-адмирал К.Н.Пилкин, который служил на фрегате «Аврора» вахтенным начальником и тоже принимал участие в обороне Петропавловска в 1854 году, а в мае 1955 года в заливе Де-Кастри.
Так причудливо история переплетает события разных времён и народов, происходивших в разных местах земного шара. Я попытался рассказать о небольшом отрезке времени, наполненном важными для нашей страны делами, напомнить о людях того времени и о их служении Отечеству.
Уверен, это не должно быть забыто. Как и то, что происходило на берегу залива Де-Кастри в более поздние времена. Высадка японского десанта в мае 1905 года, Гражданская война и интервенция, строительство укрепрайона и военно-морской базы, а позже - организация Де-Кастринского ЛПХа и открытие портпункта для иностранных судов, строительство портовых сооружений и уникального нефтеотгрузочного комплекса… Все эти годы на берегу бывшего залива Де-Касти , ныне залива Чихачёва, охраняли и охраняют пределы восточных рубежей нашего государства люди в военной форме. Когда-то это были казаки, солдаты и офицеры линейных частей русской армии, РККА, советской армии и, конечно же, пограничники.
В нынешнем году мы будем отмечать великие Победы нашего народа в войнах 1941-1945 годов, но мы не должны забыть и о 170-летии Победы в заливе Де-Кастри во время Крымской войны 1853-1856 годов. Это было последнее крупное противостояние воюющих держав на Тихоокеанском театре боевых действий, закончившееся победой русского оружия.
Де-Кастри заслуживает того, чтобы в посёлке был создан историко-культурный центр, который может и должен стать центром по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи. Посёлок с удивительной судьбой должен быть отмечен на карте туристических маршрутов, став точкой притяжения для любителей истории и ценителей дальневосточной природы.
Это будет чрезвычайно важным делом, направленным на сохранение исторической памяти и справедливости. Страницы летописи освоения и защиты дальневосточных рубежей нашего государства должны содержать события всех времён и имена тех, кто был их участниками.
Автор: Сулейманов Салават Шейхович, д.м.н., профессор


Грунтовая трасса Циммермановка – Де-Кастри.